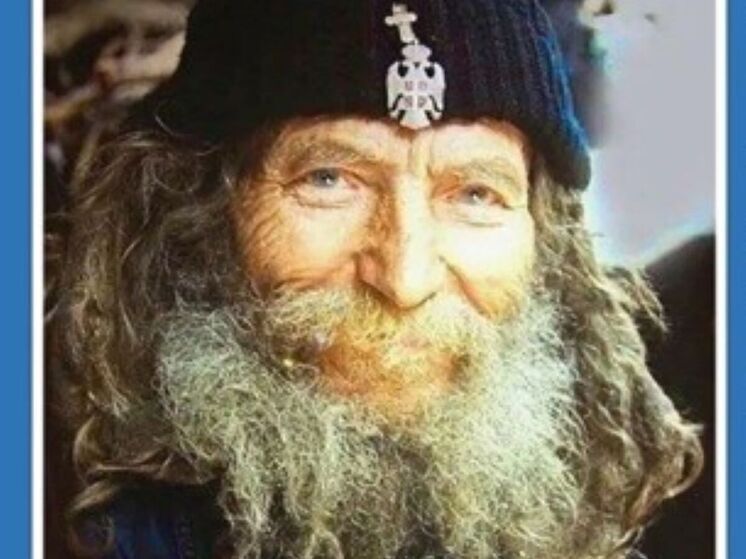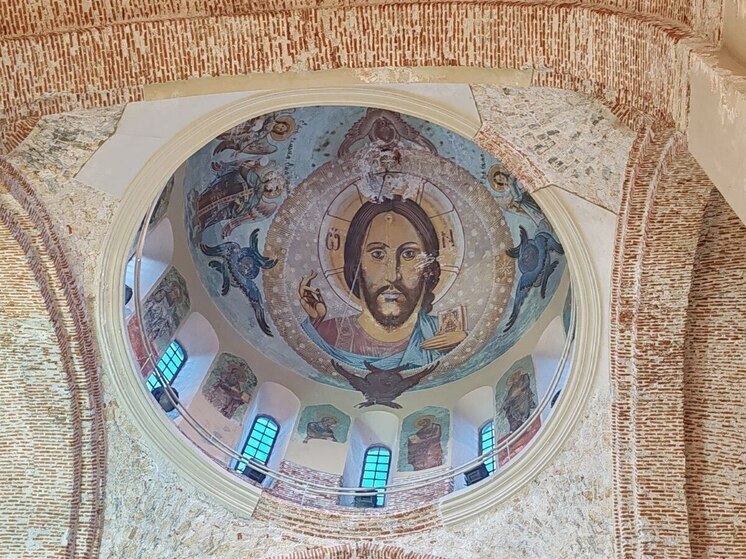История 1: про то, как Китай владел Ташкентом
Вначале, правда, Ташкентом овладели джунгары, которые, несмотря на то, что их собственная история уже приближалась к трагическому финалу, все еще представляли собой значительную силу на степных пространствах Евразии.
В конце первой четверти XVIII века они захватили Ташкент, а заодно и Фергану, разделенную в те времена на несколько суверенных владений, не сумевших оказать достойного сопротивления. Однако после страшного разгрома от китайцев, в результате которого про джунгаров вспоминали уже в прошедшем времени, победители, цины, посчитали себя естественными восприемниками былых джунгарских территорий. В них вошли не только земли Семиречья, но и значительная часть современного Узбекистана.
Известно, что стоявший во главе ферганских беков Ирдана-бий даже отправлял посольство в Пекин с выражением верноподданнических чувств.
Однако следует понять, что и тут, как и на территории Юго-Восточного Казахстана, власть китайских императоров не была прочной. Однако местные правители, памятуя о той страшной силе, которая стерла с лица земли целый народ, державший в напряжении эту часть мира все минувшее столетие, благоразумно выжидали, не желая ссорится с грозным соседом.

История 2: о «сартовских штучках», которые культивировали в городах Туркестана, но не признавали в кочевой среде
Про порочный «бачизм» в Туркестане в русских источниках повествовалось с нескрываемым омерзением. В лучшем случае с иронией. Вот характерная «картинка» от другого наблюдателя — военного и публициста Михаила Терентьева («Туркестан и туркестанцы», Вестник Европы, No 11, 1875): «Поклонник и обожатель красоты и грации не знает, как угодить плясуну баче. Бача одет в женское платье. Длинные косы, сплетенные из конского волоса, висят по плечам и спине. Бусы и золоченые русские монеты украшают его грудь... Никто не скажет, что это не девушка — так красив и кокетлив бача. Другой еще продолжает танец, плавно выступая по ковру босыми ногами под такт нескольких бубен и пронзительный визг дудки.
Бача есть, так сказать, законное следствие изгнания женщины из общества. Есть особые мастера, воспитывающие бачей, обучающие их танцам, грации и самому циничному кокетству...
Телодвижения мальчика, лукавые и вовсе недвусмысленные взгляды, грациозная поступь под звуки не всегда пристойной песни — все это, конечно, должно действовать на чувственного азиата. Роскошная одежда, добрый конь и толпа поклонников в свите еще издали выдают бачу во время его прогулок. В лавках он заставляет покупать себе лакомства и бросает их народу, а не то распоряжается таким же образом и деньгами своих обожателей. Народ восхваляет щедрого бачу и сыплет комплименты: «Глаза твои — что звезды, поцелуй — словно жаркое дыхание меккского ветра...»
Почти у каждого богача есть свой бача...»
Любителями мальчиков-трансвеститов являлись в основном сарты, жители среднеазиатских городов, и оседающие там же тюрки. В местах, где обитали лишь кочевники, эти извращенные традиции не имели никакого значения. Но часто имели последствия.
Есть показательный случай неприятия номадами «сартовских штучек», произошедший на другом конце Средней Азии, в Киргизии. О нем поведал историк П.П. Румянцев: «В том же 1862 году манап, рода Султу, Байтык послал своего сына Байсалу в Пишпек к Рахаматулле-беку в обучение, но Рахаматулла-бек сделал Байсалу своим «бачей». Весь род Султу был возмущен этим поступком. Решено было отмстить кокандцам за позор. Байтык, не показывая, что знает поступок Рахметуллы, пригласил его к себе в гости. Когда Рахметулла прибыл с небольшим конвоем, киргизы напали на конвой, перебили его и убили самого бека. Боясь мести со стороны кокандцев за убийство Рахметуллы, киргизы рода Султу послали в укрепление Верное к начальнику края Колпаковскому посольство с изъявлением готовности перейти в русское подданство при условии взятия Пишпека. Колпаковский согласился на условие султинцев и выступил на Пишпек. После 10-дневной осады Пишпек был взят 10 ноября 1862 года».
Европа бы осудила. Кого? Колпаковского и Байтыка, конечно.

История 3: о том, как наши земляки победили Японию
Для нас, казахстанцев, особый смысл последних боев Второй мировой войны состоит в том, что среди тех, кто завершал ее на Востоке, было немало наших земляков. Парадокс навязываемой в новые времена истории состоит в том, что ныне и в Казахстане почему-то больше вспоминают о военнопленных японцах, этаких бедолагах, которые в конце 1940-х годов добросовестно трудились на стройках в разных районах республики. И гораздо меньше говорят о тех, благодаря кому эта бесплатная рабочая сила оказалась за тысячи километров от их восходящего солнца.
Советские войска перешли границу («у реки»!) 9 августа 1945 года. Как и в самом начале войны на Западе, первыми на Востоке вступили в последнюю схватку с врагом воины-пограничники. Среди них засветились проявившие героизм казахстанцы: командир погранкатера старшина Георгий Сухоносенко из Павлодара, замкомандира разведки 53-го погранотряда капитан Георгий Голубев, два ефрейтора из 54-го погранотряда Абылкасым Курунбаев и Капан Асылбеков из Восточного Казахстана.
Симптоматичен подвиг еще одного ефрейтора-казаха Агимана Алманиязова, совершенный в первый день наступления при форсировании Амура и боях за Айгунь. Взвод напоролся на засаду японцев, и в какой-то момент боя Агиман увидел, что самурай нацелился штыком в спину командиру — лейтенанту Желнину. Тогда еще у нас не было никакого почтения к воинским искусствам японцев (Голливуд освоил тему позже), так что Алманиязов среагировал на опережение — «невероятным прыжком» сократил расстояние, ударом приклада убил японца и спас командира. За это и был награжден орденом Славы.
Боевой дух самураев угасал с каждым днем войны с Красной Армией, чего нельзя было сказать о наших воинах. Японцы начали массово сдаваться в плен. Так, 165-й стрелковый полк (79-й дивизии), которым командовал «сын пастуха» из Уральского уезда подполковник Нигмей Курманов (связавший судьбу с армией еще в 1928 году), при штурме Харамитогского укрепрайона окружил и пленил около трех тысяч солдат и офицеров врага.
Взвод разведчиков, в котором служил полный кавалер ордена Славы Василий Христенко (из Карагандинской области), при боях за Мукден (20 августа) сумел разоружить целый полк японских пехотинцев. За это бравого воина удостоили ордена Красной Звезды. (Любопытно, что, вернувшись с войны, он вовсе не утратил своих героических черт, так что уже за мирный труд был удостоен Золотой звезды Героя Труда «Серп и Молот».)
Славным этапом войны на Востоке был захват советским авиадесантом Мукдена — столицы Маньчжоу-Го, где был пленен марионеточный император Пу И. В высадке на вражеский аэродром и ликвидации штаба противника вместе с 224 товарищами участвовали казахстанцы Есим Байбулов и Михаил Измайлов.
Вспоминая о воинах-казахстанцах, нельзя обойти и женщин-воинов — казахстанок, также отличившихся в боях с японцами. Известно, что в 9-й воздушной армии служили четыре жительницы Текели из Талды-Курганской области — Мария Журавлева, Екатерина Свидлова, Нина Синкина и Александра Черепанова. Правда, в воздушных боях они не участвовали, занимались снабжением и снаряжением самолетов.
С победой над Японией закончился боевой путь не только для многих наших земляков. Здесь завершали войну целые соединения, сформированные в Казахстане: 173-й гаубичный артиллерийский ордена Александра Невского и 129-й минометный Молодечненский полки, действовавшие в составе войск Забайкальского фронта. Весь личный состав этих соединений был награжден медалями «За победу над Японией», а некоторые получили медали «За освобождение Кореи».
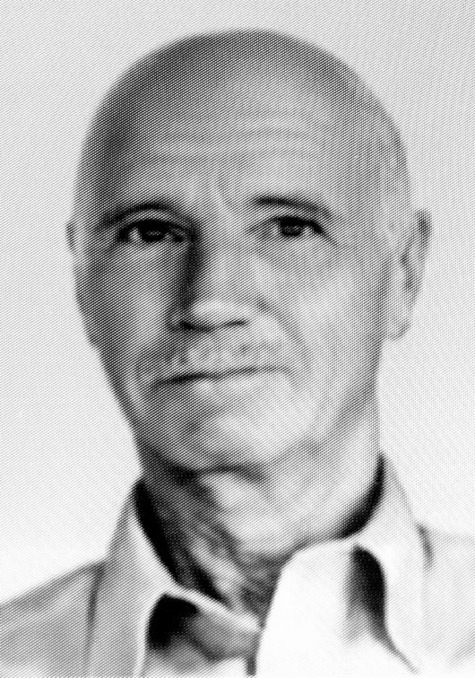
История 4: про то, что делал в Алма-Ате американский художник Рокуэлл Кент
Мое поколение неплохо знало американскую литературу. Как оказалось, гораздо лучше многих «средних американцев». Показательно, что после того, как рухнул Союз и появилась возможность запросто поговорить со вчерашними врагами про их же культуру, в итоге ничего не получалось. Американцы мало что знали про Джека Лондона и помнили про Хемингуэя лишь то, что ему присвоили Нобелевскую премию. На этом фоне начинать разговор про Рокуэлла Кента не имело никакого смысла.
Вместе с тем его источающие чистый свет «северные» полотна часто воспроизводились на разворотах журналов, его выставка перманентно путешествовала по Союзу, а несколько картин до сих пор экспонируют на третьем этаже Эрмитажа. Удивительные книги Кента про Крайний Север (и Крайний ЮГ) издавались у нас такими тиражами, какие не снились заокеанским бестселлерщикам.
Кент был страстным поклонником СССР (к 1960 году он подарил нам 900 своих работ), и СССР отвечал Кенту взаимностью (Ленинской премией за укрепление дружбы в 1967 году, званием почетного академика Академии художеств в 62-м). В эти годы он возглавлял Совет американо-советской дружбы и часто бывал в нашей стране. Путешествовал и по Казахстану, где в Алма-Ате встречался с казахскими художниками, а в совхозе Джанашарском даже сажал деревья.