История 1: про первых тревел-блогеров в дебрях Семиречья
Сегодня лишь редкий чиновник не рассуждает о захватывающем «туристическом потенциале» Казахстана. Наша судьба, если все пойдет как задумано, — раствориться со временем в толпе приезжих гостей с оттопыренными карманами, ублажая и привечая которых, мы наполним-таки бюджет без всяких углеводородов. Ублаженные, они начнут разносить по всему миру добрые вести об обетованной земле в центре Азии, где денно и нощно думают только о прибывающих. В связи с нынешней ажитацией можно вспомнить о первых туристах, штучных, нежданных и неожиданных.
Капал — первое русское поселение в Семиречье, появившееся в 1846 году. А пару лет спустя, промозглой осенью 1848-го, в еще не отстроенном городишке возникла странная парочка — путешествующая чета англичан Аткинсон. Местные восприняли их явление с любопытством, с трудом соображая: что же понадобилось подданным Ея Величества в этих удаленных от Британской империи местах? Может, разведчики? Нет, не похожи, слишком уж простодушны. Исследователи? Вряд ли, уж очень бестолковы. (Про благотворное влияние иностранного туризма на судьбы края в те времена ведь еще не размышляли.)
Можно было бы, от греха подальше, выпроводить нежданных-незваных гостей за пределы «пограничного района». Но куда девать «паспорт» и бумаги, выданные в СанктПетербурге с ведома самого императора, а также рекомендательные письма высших сановников и указания генерал-губернаторов?
Несмотря на все старания Томаса Витлама Аткинсона (архитектора и рисовальщика, который «сначала был простым каменщиком в Кентском графстве») поставить себя рядом с великими путешественниками по Центральной Азии, его притязания на выдающуюся роль так и остались потугами. Обилия каких-то ссылок на его записки в трудах авторитетных исследователей не наблюдается. А многие обзоры по истории изучения Казахстана вообще обходятся без него.
Ведь несостоятельность Аткинсона как путешественника ощущают даже не слишком искушенные в классической географии граждане. Слишком уж он набивает цену себе и обесценивает других. Вот характерный образчик стиля, над которым любой настоящий путник смог бы только посмеяться. Все «приключение» состояло в том, что Аткинсон не удержался в седле и упал в воду. Другой бы встал и поехал дальше. Но не такой путешественник, как Томас Витлам.
«У меня не было сухой одежды, чтобы переодеться, и не было места, где можно было найти приют... С меня сняли высокие охотничьи сапоги, вылили из них воду и с величайшим трудом помогли их надеть снова. Пока я был занят (!), достали бутылку рома, к счастью, там набралось почти полчашки — хорошая порция, которую я тут же проглотил».
Или еще один характерный перл: «Приблизительно в 15 верстах от Риддерска находится Ивановский белок — гора, на которой снег лежит круглый год... Здесь находится верховье реки Громотоки, одной из самых широких рек на Алтае, ее называют Гром, а это значит, что она является поистине оглушающим потоком. Ее грохот слышен на огромном расстоянии, а когда стоишь рядом, невозможно услышать, что тебе говорят».
Ну и так далее.
Читая такие строчки бравого земляка (проблогера!), даже эмансипированные дамочки викторианской эпохи проникались мужеством автора. На них, этих читательниц с берегов Темзы, все и рассчитывалось. Тот же, кто в действительности побывал на Громотухе, вряд ли прочувствует величие «картинки». Ибо река — своенравная, горная, чистая — вовсе не подавляет, а скорее, восхищает зрителя своей заповедной красой и первозданностью.
Аткинсон был типичным туристом (да еще с замашками охотника!), а его пространные труды, очень похожие по стилю на сетевые странички современных тревел-блогеров, удивительно мало дают исследователю, интересующемуся историей и географией. В них больше самолюбования на экзотическом фоне, нежели каких-то сведений, неизвестных по другим описаниям. К тому же его «правдивые истории» были обильно иллюстрированы эффектными картинками, которые, однако, можно было рисовать и вовсе не выезжая из Лондона (привожу тут характерный «пейзаж с торнадо», в котором столько же Казахстана, сколько инопланетян на фресках Тассили).
Гораздо симпатичнее на фоне мужа выглядит Люси Аткинсон, тень Томаса Витлама, для которой, однако, не оказалось места в его путевых заметках. (Женщина рядом с бесстрашным первооткрывателем?! Нонсенс!) Однако Люси сама умела писать, и то, что вышло из-под ее пера, читается с куда большим интересом. Потому что она была способна не только любоваться собою на фоне, но и разглядывала сам фон. Что несколько компенсировало отсутствие подготовки (Люси была из служанок).
Вот ее описание местных казахов: «Они — особая раса людей: способны, будучи в состоянии оставаться два-три дня без пищи, затем поглотить огромное количество еды. Мне рассказывали, что один человек может съесть овцу за один раз. Расспрашивая об этом самих киргизов, я получила предложение одного из них продемонстрировать подобное зрелище, если я заплачу за него, но я отказалась быть очевидцем такого отвратительного искусства».
Зная чувство юмора казахов, можно предположить, как потешались они над реакцией импозантных иноземцев!
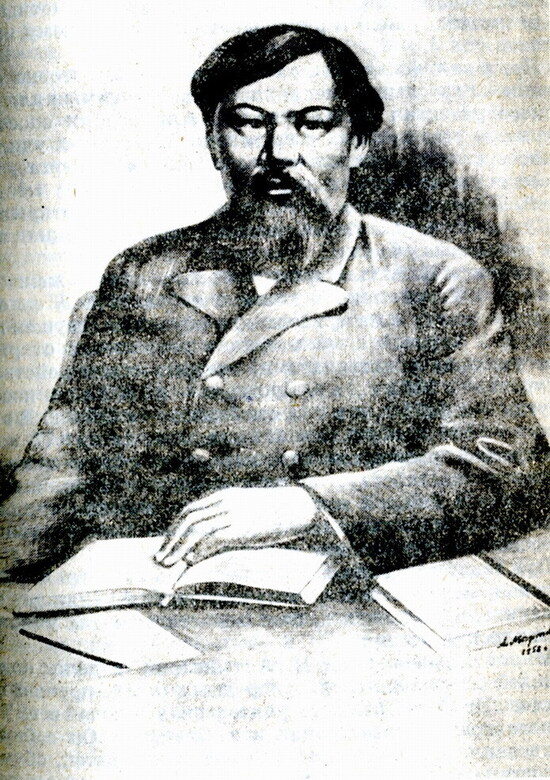
История 2: как русская православная церковь издавала Ибрая Алтынсарина
Как известно, успехи Православного миссионерского общества на территории Степного края и Туркестана были столь незначительны, что о них мало кто вспоминает. Это если говорить о вовлечении в христианство казахов, которые так и остались мусульманами (на деле продолжая поклоняться еще и многочисленным святым и духам, верить в силу баксы и дервишей, совершать паломничества к родникам и деревьям).
Но тем не менее, если посмотреть с другой стороны, деятельность Православного общества и его подразделения — Переводческой комиссии оставила все же заметный след в деле просветительства и вовлечения казахского населения в орбиту русской культуры. Так, с середины XIX века по 1917 год общество выпустило на казахском языке 78 различных изданий, 14 из которых — учебники. Тираж изданных книг составлял почти 100 000 экземпляров, что по тем временам было весьма значительной цифрой.
Среди названий было множество словарей, брошюр медицинского содержания и даже Пушкин («Сказка о рыбаке и рыбке») в переводе на казахский. Несколько изданий выдержали «Букварь для киргизов», «Самоучитель русской грамоты для киргизов», казахско-русский и русско-казахский словари. Между прочим, дважды переиздавался и знаменитый труд Ибрая Алтынсарина «Киргизская хрестоматия».
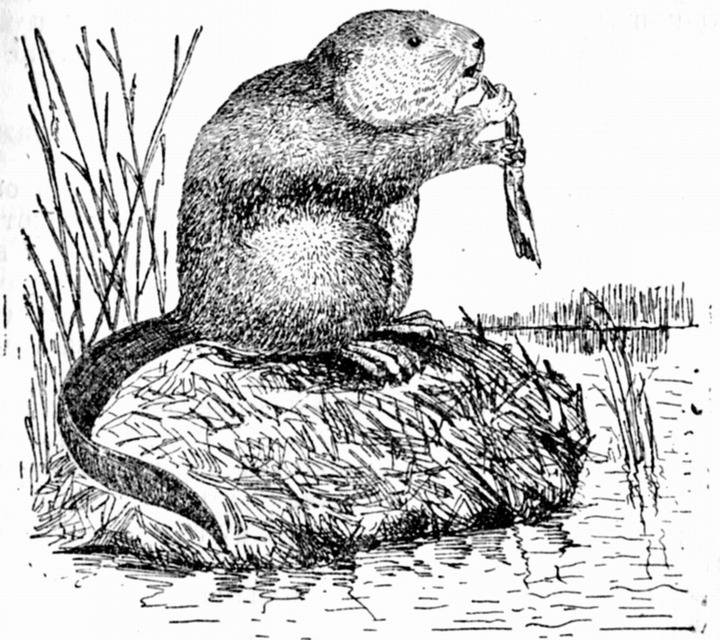
История 3: про то, за что казахстанские зоологи получили высшую премию СССР
В 1950 году сразу три наших биолога были удостоены высшей награды СССР — Сталинской премии. Причем за две совершенно разные работы. Академик И.Г. Галузо получил награду за капитальный четырехтомник «Кровососущие клещи Казахстана» (работа не утратила злободневности до сих пор). А двое сотрудников Института зоологии — И.А. Долгушин и А.А. Слудский (вместе с двумя работниками конторы с говорящим названием «Заготживсырье» Варфоломеевым и Волянским) — поделили премию за акклиматизацию ондатры (на рисунке). Работы начались еще в 1933 году с дельты Или.
Нужно сказать, что ондатровый промысел вносил значительную лепту в экономику республики. Вестник Академии наук Казахской ССР писал в мае 1950 года: «Ондатра обитает сейчас во всех областях обширного Казахстана за исключением Западно-Казахстанской, Гурьевской и Павлодарской... В настоящее время в пушных заготовках республики стоимость шкурок ондатры составляет более 50 процентов. Удельный вес Казахстана в заготовках шкурок ондатры, добываемых по всему Советскому Союзу, составляет более 50 процентов».

История 4: о чем мечтали девушки в эпоху освоения целины
Когда Советский Союз дал старт целинной эпопее, главной задачей «топменеджеров» грандиозного проекта было всколыхнуть огромную массу людей на его реализацию. А когда массу всколыхнули, то оказалось, что о многом не подумали — не успели. Так, в первое время на целину приезжали в основном представители мужеского пола, многие демобилизовались из армии. Что не только рождало проблемы в плане долгосрочной демографии, но и создавало множество текущих моментов, никак не украшавших величия эпохального проекта. Известно, что в суровом обществе себе подобных сильный пол начинает пить, прекращает мыться и быстро опускается до самого примитивного уровня.
И тогда «Правда» устами группы девушек из совхоза «Мариновский» обратилась с призывом к подругам со всей страны — ехать на целину. То, что началось вслед за кличем «мариновок», трудно понять тем, кто сформировался в новых экономических условиях. Газеты запестрели ответами вроде: «Пятьсот девушек — строители, медики, слесари, зоотехники, текстильщицы, библиотекари, продавщицы, доярки, учительницы, агрономы — выехали в СевероКазахстанскую область», «300 патриоток из Винницкой, Кировоградской и других областей Украины выехали...»
И не только Украины. Что бы они там сегодня ни кричали, но на целину ехали доброволки даже из республик Прибалтики. Были известны, к примеру, имена Айви Аас, Айты Суль, Виви Руул из эстонского Пярну, которые приехали штукатурить совхоз «Барвиновский». Длинные составы, от которых во все стороны распространялся запах духов «Красная Москва» и домашнего уюта, со всех сторон необъятной страны потянулись к целине. Кто-то, конечно, вскорости вернулся обратно, но многие приехали навсегда. И сегодня в Казахстане живут уже внуки тех задорных целинниц.





















