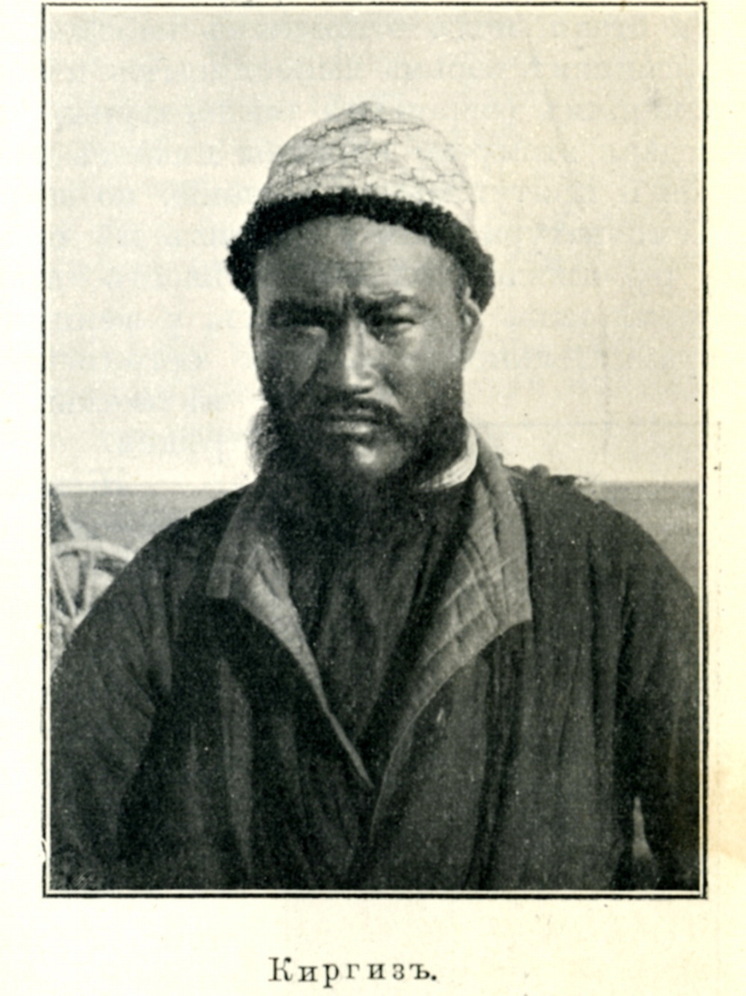История 1: старинная. Для чего папа Иоанн XXII поделил Азию в XIV веке
Эта история относится к тем временам, когда в недрах католицизма зародились два могущественных монашеских ордена, членам которых суждено было сыграть важную роль как в истории географических открытий, так и в истории политической. Созданные с единообразными целями — ради борьбы с ересями и для распространения христианства, ордена Франциска Ассизского и Доминика де Гусмана изначально дублировали друг друга. А от того долгие века оставались непримиримыми антагонистами и постоянными соперниками.
Особенно ярые столкновения между францисканцами и доминиканцами происходили по поводу раздела сфер влияния на Востоке. Хотя истинная география и подлинные размеры Азии представлялись в то время весьма приблизительно, реальные богатства, которые поступали из глубин материка (особенно «тонкие специи»), будоражили воображение не одного только европейского купечества. Они не давали покоя и римскому папе Иоанну XXII, резиденция которого находилась тогда, правда, не в Риме, а в Авиньоне.
Он-то, папа, для пользы дела и решил в 1318 году спор монахов кардинально — взял да и поделил Азию между конкурирующими орденами, подписав специальную буллу Redemptor noster. Доминиканцам досталась Татария (в том числе и территория нынешнего Казахстана) и Индия, а францисканцам — Крым и Китай.

История 2: пикантная. О мягком аргументе в пользу развода в адате
Счастливым семьям аргументы не требуются. Этим, как известно, они и похожи. А вот все несчастные — несчастны по-своему. Однако обычное право в дореволюционном Казахстане было столь развернутым и дотошным, что могло регулировать тонкости семейных отношений даже в самых интимных ситуациях.
Взять, к примеру, бракоразводные процессы. Законоведы и бии прошлого вряд ли хоть раз слышали самый распространенный аргумент современной юриспруденции в сфере семейно-брачных отношений «не сошлись характерами». Зато казашка могла требовать справедливого разрыва семейных уз по причине, которую вряд ли часто слышат современные судьи. Коли муж оказался не дюж в выполнении своих прямых мужских обязанностей, это считалось вполне достойным поводом для обретения свободы женой, не желающей продолжения такого брака.
«Если муж отрицает свое бессилие, то жена поручается ему под наблюдением старшины для констатирования истины», — писал, ссылаясь на бийские книги Перовского уезда, один из исследователей права казахов Сыр-Дарьинской области Н. И. Гродеков.
Само собой разумеется, что большинство неспособных мужей не доводило дело до судебного эксперимента. Понятно и то, что род мужа старался склонить рассерженную и неудовлетворенную женщину к переходу к кому-нибудь из дееспособных родственников слабака.
«Новый муж в таком случае платит прежнему не полный калым, а «родственный», количество которого тем больше, чем дальше степень родства».
Но женщина, получив заверенное «разводное письмо», имела право выйти «за кого ей угодно». Тогда калым (в количестве половины полного калыма) платил новому мужу старый муж.

История 3: вечная. Про саранчу
«Саранча летела, летела — и села...» — так начинается легендарный отчет о командировке, который подал начальству А. С. Пушкин. Гениальный поэт и нерадивый чиновник, отправленный на обследование пострадавших земель юга России. Саранча — напасть, вовсе не случайно вошедшая в список казней египетских, и борьба с нею, непримиримая и вечная, несла неисчислимые бедствия земледельцам и оставалась под особым контролем властей во все времена и во всех странах.
Как боролись с саранчой, когда большая химия еще не достигла своих вершин? Устраивали облаву: собирались скопом, копали канаву, сгребали туда докучливых насекомых и забрасывали землей.
Однако это был не единственный способ борьбы с египетской казнью, пережившей фараонов. По свидетельству наблюдателей середины XIX века, борьба с напастью в южных областях Казахстана зачастую носила характер локальных войсковых операций.
Так, в 1857 и 1859 годах Казалинск, бывший одной из важнейших российских военных баз на Сырдарье, испытывал настоящие осады со стороны полчищ саранчи, двигавшихся из пустыни. Военные загодя готовились к отражению атак, выводили солдат, сооружали пирамиды из горючей травы и даже... выставляли артиллерию. В общем, ожидали наступающую армию серьезно и подходили к осаде капитально. И это несмотря на то, что между саранчой и укреплением протекала в то время еще весьма полноводная и быстрая река.
Борьба с саранчой напоминала сводку с поля боя. Вот как описывает процесс очевидец: «Вода у берегов окрасилась в красновато-бурый цвет, и вдоль этой ленты заклубилась белая пена, будто течение реки встретило какое-то плавучее препятствие... Их не успевало еще подхватить течением, как уже новые ряды наваливались сверху... Скоро живой ковер перекинулся на эту сторону и поднимается на берег... Выстрелы из пушек и ружей, трескотня барабанов и разных орудий, вопли и крики тысячи голосов, наконец громадные костры, вспыхнувшие по всему берегу, не останавливают нашествия...»
Была ли борьба успешной? Отчет классика заканчивался без оптимизма: «Посидела, все поела — и дальше полетела». О том же свидетельствуют и средства на борьбу, которые перманентно отпускались, отпускаются и отпускаться будут.
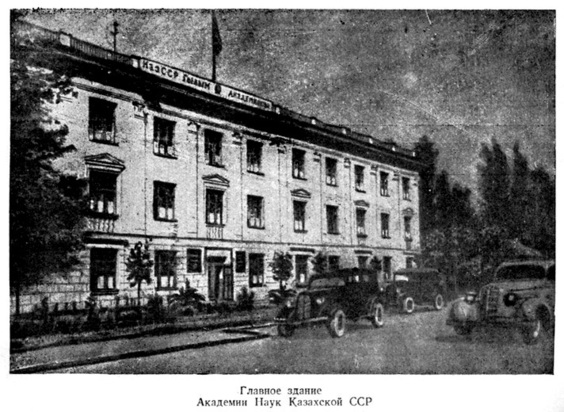
История 4: научная. Как Алма-Ата стала городом академиков
Как ни относись к советскому периоду в истории Казахстана, нельзя, не покривив душой, отрицать его благодатного влияния на развитие науки и культуры. Потому что наследием Казахской ССР мы пользуемся сегодня и долго будем пользоваться в будущем. И можно ли было бы всерьез рассуждать об интеллектуально-инновационном потенциале современной республики, если бы она не имела такой надежной исторической основы, как академическая наука?
Появившаяся в 1946 году во многом по указке сверху (академик Сатпаев прямо упоминал указания Сталина) Академия наук Казахской ССР — наша данность. И как ни относись к нюансам — гордость. Хотя бы уже потому, что такими структурами вообще-то могут похвастаться весьма немногие страны мира.
Но начиналось все не на ровном месте и несколько раньше. С появления в республике такой важной базы, как Казахский филиал Академии наук СССР. Хотя перед войной филиал насчитывал лишь сотню научных сотрудников, из которых всего трое (по другим данным, семеро) были обременены званием докторов, а еще 14 человек (менее 20) — кандидатов наук.
Но вот грянула Великая Отечественная, и из осажденных академических центров сюда, в глубокий тыл, переселился весь цвет тогдашней советской науки. Большинство академиков-ветеранов с семьями осело в Боровом, но значительное ученое пополнение прибыло и в Алма-Ату.
Заполняемый беженцами город утерял свой обычный сонный облик в какие-то несколько недель. Но на фоне множества незнакомых людей, озабоченных вопросами выживания и объединенных одним общим горем, выделялись благообразные старички в академических ермолках, одно появление которых на улицах заставляло прохожих благоговейно застывать и всматриваться в лики.
Еще бы, ведь в городе-саде в те годы можно было запросто встретить, например, прогуливавшегося кумира тогдашнего юношества, геолога-академика В. А. Обручева или географа-академика Л. И. Прасолова (бывшего известным еще во времена земства и переселенческих комиссий). А на Зеленом базаре легко было столкнуться не только со знаменитым академиком-агрономом Д. И. Прянишниковым, апологетом применения азотистой подкормки полей и огородов, но и увидеть своими глазами академика-металлурга И. П. Бардина — главного научного руководителя мобилизации ресурсов Востока, вице-президента союзной академии.
В те годы в городе у подножия Заилийского Алатау оказались ученые всех направлений и профилей. А такие науки, как, например, астрономия, были представлены всеми корифеями области во главе с академиком В. Г. Фесенковым, оказавшимися тут даже прежде, чем началась война. (Об этом я уже рассказывал.)
А в мае 1942-го в Алма-Ату приехал и сам В. Л. Комаров, президент Академии наук СССР.
Жили академики, правда, не в самом городе, а в санатории, в урочище Медео. И не только жили — работали!
Немудрено, что к 1946 году в казахском филиале АН СССР насчитывалось уже 700 научных сотрудников, 78 докторов и 200 кандидатов. Так что появление собственной академии было предрешено.