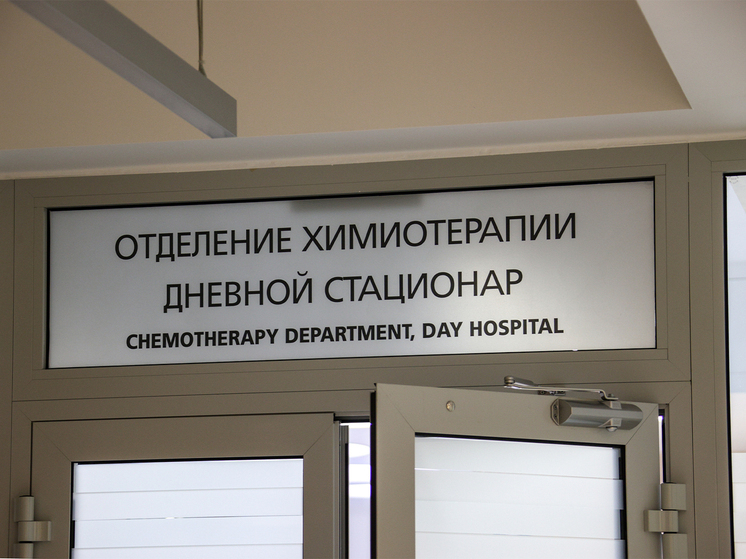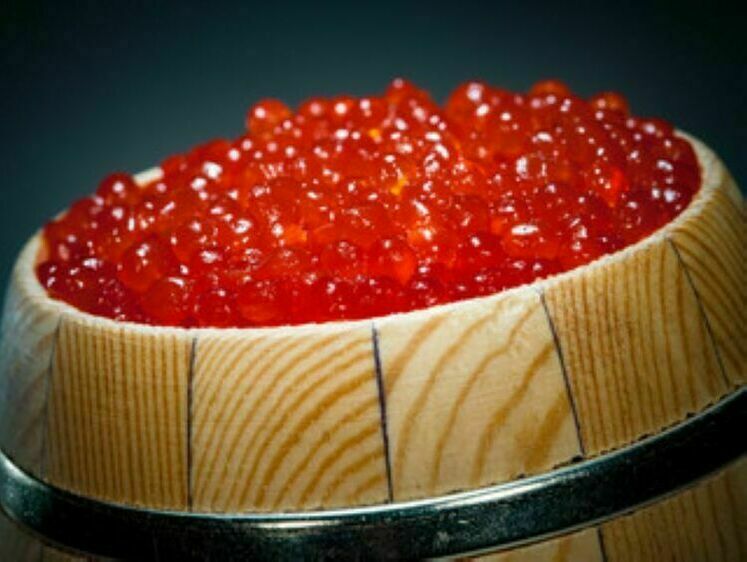Поезд в светлое будущее
Для меня это была третья в жизни серьезная поездка. До нее лишь однажды довелось побывать в той же Москве и однажды — на Черном море. Но то были семейные выезды. И хотя во многом учитывались и мои интересы, все же условия совместного отдыха накладывали на них и некий обязывающий отпечаток.
И вот теперь я ехал... В Ленинград? В будущее! В свое персональное «светлое будущее» (другого нам, вскормленникам своей эпохи, и не чуялось). А потому смотрел на открывавшийся передо мной мир широко раскрытыми глазами. Стараясь все увидеть и ничего не пропустить. Ведь, несмотря на то, что рядом была мама, это был уже мой мир, в котором я буду жить своей жизнью, без оглядки на чей-то указ или совет.
И мама тоже понимала ответственность момента. Она вглядывалась в меня как-то особо проникновенно и встревоженно-нежно, словно провожая своего непутевого отрока в дальнюю дорогу, в которой может случиться все что угодно. И это несмотря на то, что была в тот момент рядом... Так близко, как, наверное, никогда более. Такой я маму, самое родное существо в жизни, никогда раньше не видел. Эта поездка и недели пребывания в Ленинграде сроднили нас еще сильнее...
Мурманский поезд вышел с Ленинградского вокзала Москвы вечером. Вряд ли я полноценно спал в ту ночь. Ведь это была ночь, которая так и не наступила. Лязгающий состав проворно рванулся за ускользающим солнцем, а оно, прибавив шагу, лукаво обернувшись вокруг полюса, вдруг неожиданно выглянуло сзади.
Я лежал на верхней полке и не засыпал, ожидая наступления темноты, не в силах оторвать глаз от скользящих перед взором картин, таких незнакомых и таких до боли родных: темных лесов на фоне бледнеющего закатного неба, таинственных полей с запоздалыми тракторами, светлых речек, подернутых белесой пеленой тумана, маленьких полустанков, похожих на какие-то уютные театральные декорации, безлюдных городов, на улицах которых догуливали свое влюбленные парочки... Россия!
Нет, наверное, я все же прикорнул на пару часов. Потому что не запомнил перехода к чему-то вовсе неожиданному и непонятному, вызвавшему подспудный трепет. Болота! Никогда ранее невиданные, но сходу пленившие воображение будущего географа чахлыми елочками, зелеными кочками, черными разводьями окон, ленивыми космами пара и неодолимой тягой к чемуто непознанному и манящему. С восторгом взирая на открывавшуюся в то утро землю, такую пленительно прекрасную и чарующе бесконечную, я лишний раз осознавал, что правильно делаю свой выбор.
Нет, что ни говори, это был достойный пролог дальнейшей жизни.

Краткая предыстория любви на первом курсе
С каждым часом того бесконечного утра все более нарастало нервное нетерпение от предстоящей встречи с Ленинградом. Но Ленинград не спешил появляться «из тьмы лесов и топи блат». Уж и солнце выползло из-за восточного горизонта и косо брызнуло радостными лучами вдогон поезда, и пассажиры, нелепо хмурые и озабоченные, выстроились в коридоре в две очереди к туалетам. А города все не было. И вот, наконец, помятая проводница в форме мышиного цвета принесла добрую весть: прошла из конца в конец, заперла туалеты (кто не успел, тот...) и звонко кликнула «выходящим в Ленинграде» сдавать белье.
И вскоре мы вышли с Московского вокзала и пошли по Невскому, который весь был пустынный, просторный и солнечный. Та самая первая встреча с Ленинградом стала для меня встречей с любовью. Это была настоящая любовь с первого взгляда, без всяких вопросов о мотивации и терзаниях о взаимности. Любовь к городу, любовь к Невскому, любовь к каналам и Неве, любовь к этому низкому солнцу, растягивающему тени до самого Адмиралтейства, любовь к новым запахам, в которых смешались свежие ветры Балтики и болотные миазмы Питера...
И как это удачно, что мы сошли с поезда именно на Московском вокзале (а не на Финляндском, Балтийском или Витебском) и оказались аккурат на Невском проспекте! О нем каждый из нас столько читал, слыхал и мечтал. Вся «першпектива» насквозь простреливалась прямыми лучами раннего летнего солнца, гуманно светившего не в глаза, а в спины.
Таким безлюдно-праздничным, как в то утро, наверное, я более эту необыкновенную улицу и не видел. Ленинград, лето, июль... Куда, спрашивается, девались обычные толпы торопливых горожан и вальяжных приезжих, которые всегда переполняли (переполняют и переполнять будут) Невский проспект своим нескончаемым променадом? А машины? Но и сегодня, спустя полвека, у меня сохранилась полная уверенность, что единственной движимостью в то утро были только четыре медленно укорачивающиеся тени, нацеленные на еще медленнее увеличивавшийся шпиль Адмиралтейской иглы, играющего ослепительным золотом маяк пред взором.
И чем дальше продолжался путь, тем больше захватывало дух от возникавших перед глазами картин. Невский открывался с чувством истинного собирателя редкостей. Неторопливо и постепенно. Фонтанка, Аничков мост с конной группой Клодта, Аничков дворец, Гостиный двор, Невская башня, канал Грибоедова, Казанский собор, Дом книги... Невский раскрывался перед глазами как чудесный иллюстрированный фолиант.

Позавтракали в первой открывшейся столовой, где-то на углу Софьи Перовской. Разошлись же только на берегу Невы, где стояли готовые к параду корабли ВМФ СССР. И хотя парад затевался совсем по другому поводу и с нашим приездом совпал случайно, ощущение праздничной встречи лишь усугубило ту страстную любовь, которую я уже испытывал к этому просторному и светлому городу. (Растянутый «город света» так навсегда и остался превалирующим образом перед съежившимся «городом тьмы», тем же самым Питером, но спустя полгода.)
Тут, у ультрамариновой Невы, мы расстались с Леной Жуковой, которой предстоял путь через Дворцовый мост на другую сторону, в университет. Она мечтала о тамошнем факультете психологии. Кстати, в те времена, когда любая домохозяйка могла управлять государством, стать психологом можно было, только получив соответствующее образование. А его в СССР давали лишь два университета — МГУ и ЛГУ. Потому и конкурс на одно место измерялся двузначными цифрами. Не удивительно, что Лена, одна из лучших в нашем выпуске, этот конкурс не прошла и отправилась домой. Чтобы после года усиленной подготовки вновь поступать. Поступать и поступить!
Ну а мы втроем вернулись по Невскому обратно, дошли до Строгановского дворца, свернули по Мойке (благозвучнее, наверное, прозвучит вдоль Мойки) и практически тут же оказались перед решеткой, за которой таился барочный дворец, выстроенный когда-то чуть ли не Растрелли и принадлежавший в оные времена едва ли не графу Разумовскому. А позже, в самом конце XVIII века, как и несколько соседних особняков, переданный Воспитательному дому для сирот, на базе которого в начале XX столетия и возник Пединститут.
Тут, в бывшем дворце фаворита императрицы Елизаветы, в административном корпусе ЛГПИ имени Герцена, и располагалась приемная комиссия. Где для начала нужно было отодвинуть тяжелую створку входных дверей, преодолеть просторную парадную лестницу, проникнуться благоговением, а после уже не без трепета протолкнуться в залу, где принимали документы. Там царила многолюдная суета, формируемая растерянно-озабоченным давлением протолкнувшихся на серьезно-благожелательную стену сидящих за столами девушек — не то студенток-старшекурсниц, не то молодых сотрудниц. Которые могли ответить на любой вопрос, интересовавший абитуриентов и их родителей. Многие были с родителями.
На столах лежали написанные плакатными перьями на листках ватмана названия факультетов: «Матфак», «Спортфак», «Истфак», «Северный», «Деффак», «Дошкольный», «Естественный»... Ага, «Геофак». Сдача документов, оформление на подготовительные курсы, определение в общежитие. Много времени не заняло.
Где-то здесь мы расстались и со второй спутницей — одноклассницей Олей Шаблицкой, которая поступала, также через подкурсы, на факультет дефектологии. Он был уникален и готовил педагогов для работы с детьми, имевшими какие-то врожденные отклонения. Ольга, если не ошибаюсь, отучилась на отделении сурдопедагогики и позже работала в специальных школах, где обучались ученики с дефектами слуха.
Бумага моих разворачиваемых справок и сдаваемых документов еще продолжала звучать, ответы на заданные вопросы еще не просочились из уст, но меня уже тянуло поскорее оказаться на улице, где меня ждал такой еще непознанный, но уже в доску свой Ленинград. Мой Питер...
С великим городом меня связывают не просто годы жизни. Судьба. Потому что, не попади я туда после окончания школы, меня бы и не случилось. Так что, если бы не было во мне столь неодолимой любви к Алма-Ате, единственным местом, где бы я хотел обитать на этой планете, оставался бы мой Питер — Ленинград — Санкт-Петербург. Связь с ним не прерывалась с той первой встречи никогда. Он манил постоянно, чему я особо и не сопротивлялся, приезжая и заезжая при всяком удобном случае, чтобы подпитаться интеллигентной питерской энергетикой, потаскаться по музеям и театрам, поковыряться в удивительных букинистических лавках, поболтаться с фотокамерой по улицам, паркам и набережным. И взглянуть хотя бы через решетку на «мой институт».