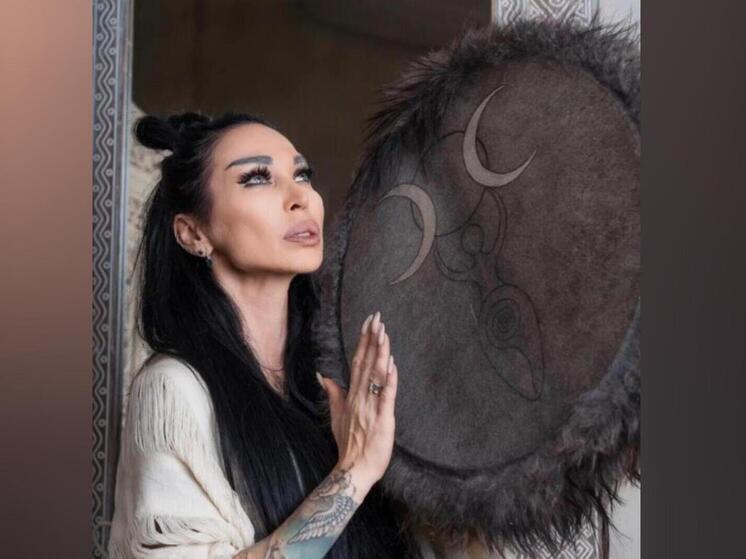Считаю журналистской удачей общение с современниками первого академика страны и первого президента Академии наук Казахской ССР. Сегодня этих людей нет рядом с нами, но остались их воспоминания, которые дополняют портрет Каныша Имантаевича. К примеру, более полувека посвятил инженерно-исследовательской и научно-изобретательской деятельности действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан, заслуженный изобретатель и рационализатор РК, профессор, доктор технических наук Асер Имангалиев, встречавшийся по долгу службы с выдающимся ученым.
Исполнив волю ученого
Асер Имангалиевич Имангалиев — лауреат премии Кабинета министров Казахской ССР, премии имени К.И. Сатпаева в области естественных наук, кавалер ордена «Знак Почета». Он был награжден медалями ВДНХ СССР, «За доблестный труд» и «Ерен енбегi ушiн», являлся обладателем нагрудного знака «Кеншi данкы» первой степени и звания «Лучший изобретатель в цветной металлургии». Асер Имангалиев — почетный гражданин города Сатпаева.
Выпускника Новочеркасского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени Серго Орджоникидзе в далеком 1957 году направили на Жезказганский горно-металлургический комбинат. Он прошел путь от горного мастера до заместителя управляющего шахтопроходческим трестом, стал одним из пионеров внедрения самоходного оборудования впервые в Советском Союзе на рудниках Жезказгана, одним из организаторов создания научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «ЖезказганНИПИцветмет», возглавляя его научные подразделения на протяжении 30 лет.
Преддипломную стажировку Асер Имангалиев проходил на медных рудниках Жезказгана. Ему выпала честь трудиться здесь с главным инженером рудоуправления Мухитом Бупежановым, который впоследствии стал первым заместителем министра цветной металлургии республики. В 1964 году перспективный работник становится кандидатом технических наук, успешно исследовавшим эффективность камерно-столбовой системы разработки с применением самоходного оборудования в условиях мощных залежей Жезказгана. А ведь вплоть до 1957 года рабочие использовали ручной перфоратор, получая виброболезнь...
Асеру Имангалиеву принадлежит ведущая роль в создании и внедрении эффективной технологии разработки пологих залежей крепких руд с применением самоходного оборудования и закладкой в подземных условиях. Каждый день его трудовой деятельности становился новым шагом на пути к важным и нужным рационализаторским предложениям.
Асер Имангалиев был первым начальником участка самоходного оборудования на передовой шахте No 51, когда в 1961 году сюда приехал в качестве президента Академии наук Каныш Имантаевич Сатпаев, у которого состоялся разговор с Асером Имангалиевичем. Каныш Имантаевич, спустившись в забой, обратил внимание на то, что 30-40 процентов руды сохранялось в целиках. Это такие огромные столбы-опоры, оставляемые в штреках. В них скрывалась богатая руда — миллионы тонн. А технического решения, как достать эту массу, не было. И Сатпаев назвал данное положение дел недопустимым, поручил Асеру Имангалиеву найти выход, как сберечь запасы и извлекать целики.
— Я дал Канышу Имантаевичу обещание исполнить его волю, — вспоминал в разговоре со мной Асер Имангалиевич. И завет Сатпаева был реализован. Жезказганцы нашли два варианта извлечения целиков, научившись управлять обрушением залегающих пород.
Асер Имангалиев выступал на крупном совещании с участием Каныша Сатпаева, который поддержал предложения молодого ученого. В итоге потери руды сократились до 3-5 процентов.

Горняки нужны стране
Каныш Имантаевич отличался исключительным умением располагать к себе. Беседуя с ним, каждый чувствовал себя свободно и просто. Очень быстро человека переставало смущать то, что его собеседник — большой ученый. Счастье общения с академиком выпало и ветерану труда из Жезказгана, писателю и поэту Борису Опескину. Вот что он вспоминал:
— В 1950 году после окончания десятого класса школы No 2 поселка Рудник я пошел работать товароведом в отдел оборудования шахтостроительного управления. В 1951-м решил поступить в Казахский горно-металлургический институт в Алма-Ату. В июле собрал документы, написал заявление, отправил. Стал ждать вызова на экзамены. А его все не было.
Думаю: «Что случилось? Неужто письмо не дошло?». И вдруг получаю ответ из приемной комиссии, в котором от меня требуют представить подробную биографию с указанием причины пребывания отца в Жезказгане. Такого я не предполагал. Показал отцу эту бумажку, а сам уволился и поехал в институт.
Будь что будет... За отцом никаких прегрешений не было. Человек он уважаемый. Вероятно, разберутся.
В те годы при поступлении в вуз требовалось иметь трудовой стаж. Он у меня был. Приехал в Алма-Ату. Сдал в приемную комиссию документы и отправился в общежитие для абитуриентов. В промежутке между экзаменами мы строили два спальных корпуса, выполняли подсобные работы. Я активно участвовал в этих делах, и на меня обратил внимание декан горного факультета Андрей Николаевич Кулибаба. Похвалил и сказал: «Нам такие ребята нужны, давайте к нам на горный факультет». Так потом и произошло. Зачисления я ждал с тревогой в душе, так как не представил подробной автобиографии с указанием причины приезда отца в Жезказган. Как бы то ни было, я стал студентом, занимался, ходил на лекции. Через месяц староста группы, в которой я числился, сказал: «Зайди в деканат, тебя вызывают». Ну, думаю, опять биография. Чего прицепились? Ведь мой отец ничего противозаконного не совершал. Зашел в деканат. Андрей Николаевич спросил:
— Ты что, знаком с Сатпаевым?
Я ответил:
— Нет. Знаю, что он президент Академии наук Казахской ССР, депутат Верховного Совета СССР от нашего избирательного округа, а лично не знаком. Даже не видел его ни разу.
— Ну ладно. Не видел, так увидишь. Он приглашает тебя во вторник к себе. Понял?
— Да.
А в голове у меня ералаш. Не могу понять, с какой стороны у президента Академии наук возник ко мне интерес. Что такого я мог совершить? Чего я только не передумал! Тем не менее в назначенный срок я сидел в приемной президента и ждал вызова. Наконец помощник Сатпаева сказал мне: «Заходите».
Большой кабинет, длинный, уставленный стульями стол заседаний, покрытый зеленым сукном. Во главе его — крепкий мужчина. Посмотрел на меня добрым взглядом и произнес:
— Подходи ближе, не стесняйся. Ты Борис Опескин? В институт поступил? А отцу об этом сообщил?
— Да, — говорю. — Телеграмму дал.
— На какой факультет пошел учиться? — На горный.
— Ну что же, это хорошо. Горняки нужны нашей республике. Учись. Желаю успеха! Беседа была краткой. Я попрощался и ушел. Вышел на улицу. Иду и думаю: «Этот человек по горло занят научными и государственными делами и вдруг находит время для меня — ничем себя не проявившего в жизни студента».

Эта загадка сохранялась до моего приезда домой. Я рассказал отцу о моем посещении Каныша Сатпаева. А папа показал мне письмо, в котором обратился к Сатпаеву после того запроса секретаря приемной комиссии о причинах пребывания в Жезказгане. Дело в том, что я попал под подозрение как возможный сын узника Степлага. Но мой отец — первостроитель. Каныш Имантаевич был очень обязательным человеком по отношению к своим депутатским делам. Не оставил он без внимания письмо жезказганского инженера и написал директору института: «Ко мне обратился с письмом т. Опескин А.С., работающий в течение 17 лет в Центральном Казахстане инженером, в том числе свыше 10 лет — в Жезказганском комбинате. В своем письме т. Опескин сообщает, что сын его Борис, окончивший 10 классов, решил продолжить учебу в вашем институте. Выезд его в институт задерживается из-за неполучения извещения от института. Причиной, побудившей т. Опескина обратиться с письмом ко мне, явился запрос секретаря приемной комиссии института о причине работы т. Опескина в Жезказгане. Это, по-видимому, несколько оскорбило т. Опескина, так как он считает, что по этому запросу выходит, что в Жезказгане нет честных незапятнанных людей, если на такой случай нужно давать о себе справку. Ввиду того что т. Опескин А.С., имея звание горного директора третьего ранга, работает в Жезказгане на ответственной должности в течение 10 лет, я прошу вас ускорить вызов его сына Бориса Опескина в институт на приемные испытания согласно его заявлению. О принятых вами мерах прошу поставить меня в известность. Академик К.И. Сатпаев».
Не знаю, запомнил ли Каныш Имантаевич меня. В день рождения моего первенца 30 марта 1961 года выездная сессия Академии наук Казахской ССР проходила в Жезказгане. Я, будучи участником, встретился с Канышем Имантаевичем, напомнил о себе и сообщил о рождении сына. Он поздравил меня, поинтересовался здоровьем отца. Я поблагодарил Канаке за участие в моей судьбе, и после обмена добрыми пожеланиями мы расстались.
При всей своей занятости Каныш Имантаевич находил время для общения с простыми людьми, которые доверяли ему и избирали на ответственные посты. В полупустыне Сатпаев сумел создать научно-производственный и технический коллектив, окрылил его своими энергией и уверенностью в перспективе месторождения.
Жезказган — детище Каныша Имантаевича Сатпаева. И благодарные потомки хранят добрую память о первооткрывателе. Его именем названы город в области Улытау, улица в Жезказгане и во многих других городах страны, воздвигнуты памятники ученому в Астане, Алматы, Караганде, Жезказгане, Сатпаеве, Атырау. Каныш Имантаевич был звездной личностью целого народа, общества, эпохи.