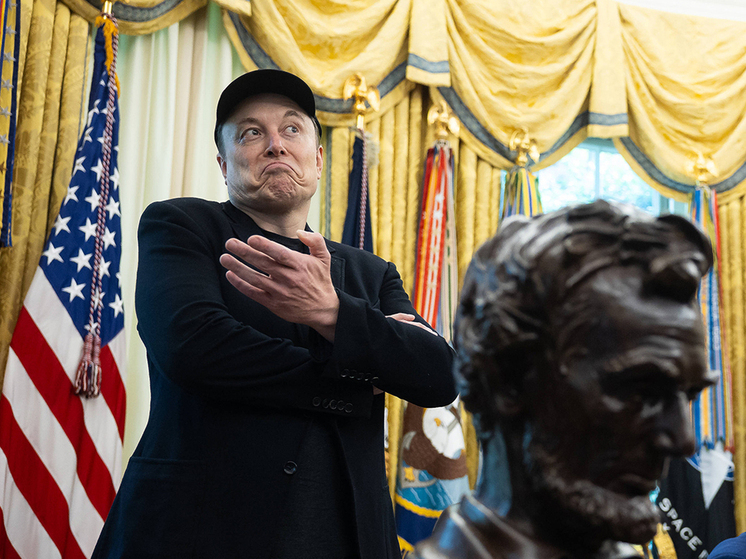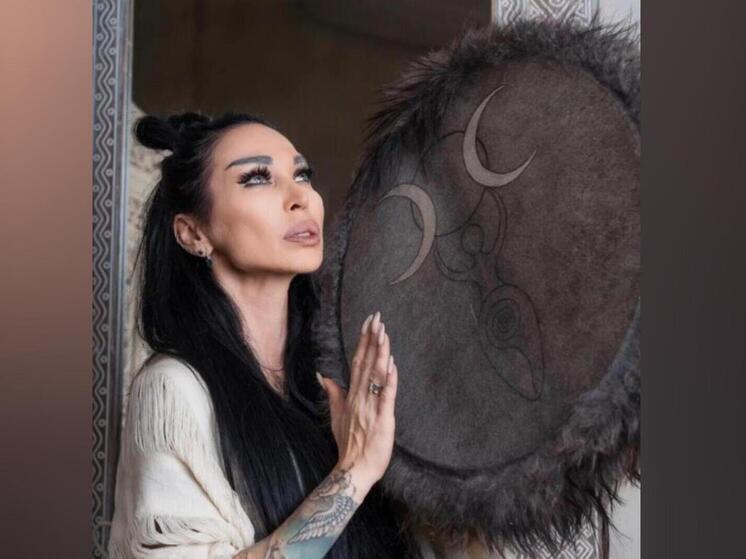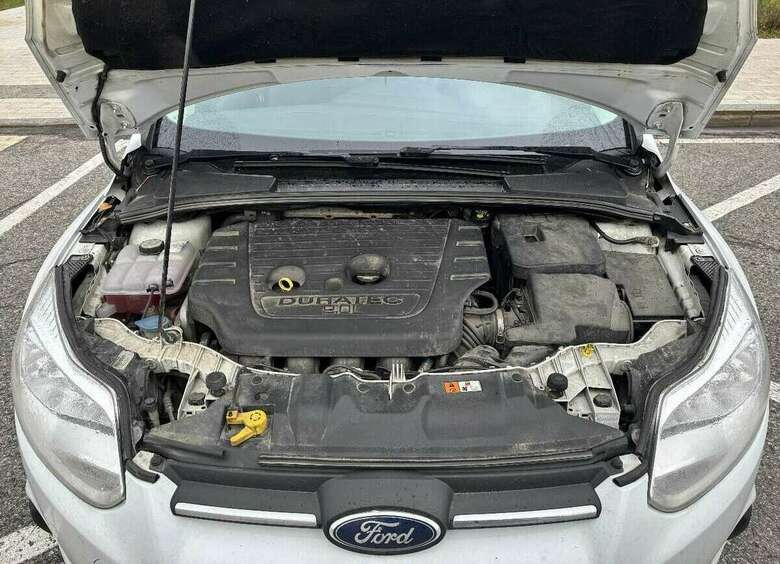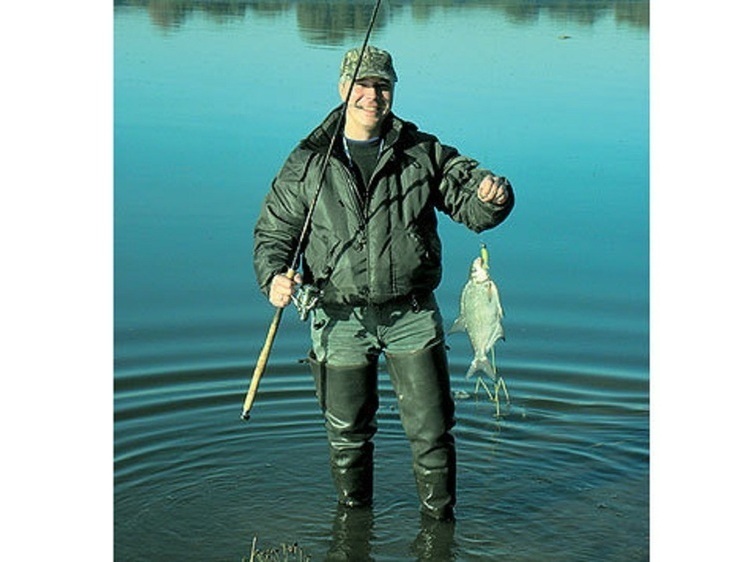Российский лингвист-полиглот и переводчик Дмитрий Петров, разговаривающий на более чем полусотне языков, последние восемь лет регулярно, по нескольку раз в год, приезжает в Казахстан, где проводит четырехдневные курсы ускоренного обучения базовому уровню английского, немецкого, французского, испанского и других языков. По заказу одной из казахстанских национальных компаний он разработал методику обучения и казахскому языку.
– Дмитрий, вы можете описать суть своей методики в одном предложении?
– Это – компактность по времени, связь с образной системой языка и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Предложения изучить казахский и разработать методику ускоренного обучения ему поступали мне давно, но конкретный проект возник год назад. Я разработал схему обучения на основе моего более чем 30-летнего опыта преподавания других языков и в последнее время провожу мастер-классы для местных преподавателей казахского. Сейчас их всего несколько человек, все они алматинцы. Но это лишь начало.
– Чего же, по вашему мнению, не хватает нашим преподавателям?
– Не хватает не преподавателям, а методикам. Ознакомившись с имеющимися здесь пособиями, учебниками и самоучителями по казахскому языку, я нашёл их достаточно громоздкими для восприятия обычного человека. Иногда формулировки, с которых начинается учебник, сложны даже для меня – профессионального лингвиста.
– А в чем сложность казахского языка для изучающих его?
– К сложным моментам казахского относятся сингармонизм (уподобление гласных в рамках одного слова), особый набор притяжательных форм, особые глагольные формы, не похожие на другие языки. К позитивным явлениям, облегчающим овладение языком, можно причислить отсутствие неправильных глаголов, артиклей, грамматической категории рода. Кроме того, в казахском языке есть близкое к идеальному соответствие написания и произношения. В этом плане его можно сравнить, пожалуй, только с белорусским языком, где наблюдается практически полное соответствие произношения и написания.
– За какой период времени вы сами выучили казахский язык?
– Я не могу сказать, что выучил его. Это постоянный процесс, и в моём случае речь идёт только о достижении какого-то уровня овладения казахским. Тем более что я ограничен в возможности использовать язык.
– Но вы же часто бываете в Алматы, Астане, Караганде…
– Ну а с кем здесь поговорить? Ситуация, когда явный неказах обращается к казаху на казахском языке, а в ответ слышит реплику на русском, – достаточно типична. Лично я с этим сталкивался неоднократно.
– В таких случаях вы не просите собеседника перейти на казахский язык?
– Такие вещи не навязывают. Всё, что связано с человеческим общением, должно возникать естественно. Сейчас в Казахстане ситуация такова, что выучить казахский язык по-настоящему можно только в ауле, потому что там зачастую просто не знают никакого другого.
– Вы считаете, что базовым уровнем любого языка можно овладеть за четыре дня, и доказываете это на практике. Но, не имея личного опыта, поверить сложно…
– Базовым уровнем я называю набор самых важных для данного конкретного языка грамматических структур и лексический минимум (по принципу частотности). По статистике 90 процентов человеческой речи, независимо от языка, уровня образования и возраста говорящего, занимает набор примерно из 300–350 слов. Все остальные тысячи и тысячи слов – это оставшиеся 10 процентов. Поэтому на первом уровне важно овладеть основным запасом, а после, по принципу спирали, расширять и углублять его, исходя из индивидуальных потребностей того, кто этот язык изучает.
– Значит, вы, имея лексический минимум казахского языка, дерзаете обучать тех, кто владеет гораздо большим словарным запасом?
– Единственное, чем я могу помочь здешним преподавателям, – это предоставить им определённый системный подход к обучению людей, не говорящих на казахском. Объяснить последовательность шагов, в которой стоит преподносить материал.
– С этой цифры, пожалуйста, подробнее.
– Прежде всего обучающемуся необходимо разобраться в наборе из нескольких грамматических структур, связанных со спряжением глагола в наиболее употребляемых формах и системой местоимений. А также овладеть лексическим набором по 10–15 темам, которые чаще всего обсуждаются людьми. Эти темы очевидны – семья, работа, погода, отдых и т.д. При этом очень важно, чтобы человек с самого начала мог говорить о себе, своей жизни, интересах и работе. Это и является проявлением принципа индивидуального подхода.
Чтобы люди не пугались по ходу обучения (а этот аспект существующие методики часто игнорируют), надо сразу объяснить в доступной форме, в чём радикальное отличие казахского – и тюркских языков вообще – от русского и европейских. Я уже упоминал сингармонизм, падежные окончания, которые во многих случаях заменяют предлоги. Есть также особая притяжательная форма существительных и ряд других особенностей. Например, по-русски мы говорим "мой друг", а по-казахски мало использовать слово "мой" – "менiң", но надо ещё добавить окончание "ым": получается "менiң досым". То есть здесь двойной показатель принадлежности. Другой существенной особенностью казахского языка является то, что форма отрицания заложена внутри глагола: "барамын – бармаймын", тогда как в русском оно выражается частицей "не", предшествующей глаголу. Ну и, конечно, сильно отличается порядок слов в языках: в казахском глагол всегда ставится в конце предложения, поэтому русскоязычному человеку трудно обрести навык чтения – приходится перестраиваться таким образом, чтобы, прочитав первое слово предложения, сразу обращаться к последнему, иначе непонятно, каково же будет действие.
– Вы-то сами полиглот. Но легко ли выучить язык обычному человеку, к тому же не обладающему способностями?
– Ключевое слово здесь – мотивация. Если она есть, вопрос только в том, насколько быстро и эффективно вы это сделаете. Замотивировать может работа, учёба, дружба, любовь. Последнее из перечисленного – самая сильная мотивация, кстати.
– А как полюбить человека, изначально не имея возможности с ним пообщаться?
– Как полюбить человека, я вам подсказать не могу (смеётся). Но если уж случилось – это может служить достаточной причиной, чтобы овладеть языком.
– А у нас предлагают следующую мотивацию: стыдно жить в Казахстане – и не знать казахского языка. Как вам такой подход?
– Если для кого-то стыд настолько силён, что может дать толчок к проявлению интереса к чему-либо, то, наверное, его можно причислить к одному из факторов, способствующих изучению языка. Хотя, честно говоря, настолько стыдливых людей я ещё не встречал.
– Преподаватели казахского, которых вы сейчас обучаете, тоже станут придерживаться системы четырёхдневных курсов?
– Это остаётся на их усмотрение. Но в любом случае базовый уровень должен осваиваться в достаточно сжатые сроки. Мои курсы, как правило, рассчитаны на взрослых людей, а они отличаются тем, что недолго способны испытывать энтузиазм в изучении языка. Желательно мобилизоваться на какой-то ограниченный период времени, чтобы создать фиксированный, или, как я его называю, несгораемый запас.
– Можете сделать "инъекцию оптимизма" желающим выучить казахский язык – по аналогии с инъекцией оптимизма для изучающих итальянский, о которой говорится в вашей, написанной в соавторстве с Вадимом Борейко, книге "Магия слова" (речь идёт о том, что можно выучить сразу несколько тысяч итальянских слов, просто заменив окончание "ция" на "zione": revoluzione, emozione и т.д. – А.Г.)?
– Слова с окончанием "ция" происходят из латинского языка, они интернациональны. Ко всем словам, сохранившим корень латинского происхождения с окончанием "ция", в казахском просто прибавляется окончание "сы" – например, "революциясы". Тут дело в том, что казахские слова просто соответствуют русским, потому что они заимствовались из латинского посредством русского языка.
– У нас на государственном уровне поставлена задача: к 2020 году 95 процентов населения страны должны заговорить по-казахски. Это реалистичная цель?
– Очень сомневаюсь. Из динамики, которую мы наблюдаем на данный момент, вряд ли можно ожидать, что такой показатель будет достигнут уже через девять лет.
– А каковы, на ваш взгляд, реальные сроки?
– Сложно судить, потому что пока мы не видим достаточно признаков того, что активное движение в этом направлении происходит.
– Наш сенатор Гани Касымов предложил материальную стимуляцию: в зависимости от уровня владения языком – делать к заработным платам трудящихся 10-, 20- и 30-процентные прибавки (см. "Следующему президенту сегодня лет 30", "МК в Казахстане" от 21.9.2011 г.). Что вы об этом думаете?
– Государство может осуществить подобное только в бюджетной сфере. Вряд ли это распространится на частные компании. Практика показывает, что в отношении языковой политики такой подход редко бывает эффективным. Если у вас частная фирма, вы скорее будете стимулировать специалиста за то, что он приносит вам больший доход, а не за то, что он выучил язык на более высоком уровне.
– Может быть, причина, по которой люди не стремятся изучать казахский язык, кроется в отсутствии выдающихся современных казахских писателей?
– Вполне возможно, потому что каждый раз, когда я прошу назвать имя какого-нибудь известного современного казахского писателя, мне называют Абая или Мухтара Аузова… Это всё равно что причислить к современным русским писателям Льва тостого.
– Есть ли в мире примеры ускоренного изучения языка в масштабах страны?
– Что касается новейшей истории, то мне о подобном неизвестно. Но в не таком уж и далёком прошлом есть примеры, когда язык восстанавливался, возрождался, и это происходило достаточно быстро. Например, Израилю хватило одного поколения, чтобы всё население страны поголовно заговорило на иврите. Но там была очень высокая степень мотивации, даже мобилизации населения. Во-первых, враждебное окружение. Во-вторых, люди, приехавшие из разных стран, должны были практически с нуля строить государство, создавать новую экономику.
Если продолжать тему возрождения языков, то есть также пример Кореи, в которой на протяжении веков государственным был то китайский, то японский. Или Чехии, где столетиями царил немецкий. После обретения этими странами независимости корейский и чешский восстановили свои законные позиции за 20–25 лет.
– А там какая была мотивация?
– И в первом, и во втором случае имела место достаточно высокая степень культурной идентичности населения, которая наложилась на становление нового государства, требовавшего единого средства общения – и в политическом, и в экономическом плане.
– Недавно у нас миллионным тиражом выпустили бесплатные русско-казахские разговорники. Найти их сейчас практически невозможно, но вопрос не в этом. Можно ли выучить язык по разговорнику?
– По разговорнику нельзя выучить никакой язык, потому что там не присутствует объяснение грамматических структур, а всего лишь даны готовые клише на очень конкретные случаи жизни. Он может только в какой-то ситуации выручить туриста. Но ведь ваше государство не считает собственных граждан туристами?